Москва как самосочинитель
Памяти нашего друга, архитектора и писателя Андрея Балдина, которого не стало 9 дней назад, — его последняя прижизненная публикация. Как написал Рустам Рахматуллин, «Письмо Андрея Балдина – не об архитектуре Москвы. Это письмо архитектуры о Москве».
Про халат
Сравнение Москвы с большим халатом родилось в незапамятные (незапоминаемые? лучше незабываемые) времена. Не просто допетровские, но доивановские, догрозненские.
Образ весьма интересный с точки зрения пластики, подвижности, некоторой даже развязности и определенной пустотелости, что свойственны разреженной московской плоти. Не только плоти, но и мысли или, к примеру, вольному московскому слову, что так легко облекает наше сознание – шумит, переворачивается, греет, убаюкивает нас. Разве наш текст не похож на необъятный, безразмерный халат?
Есть, однако, серьезные основания для того, чтобы разобрать это сравнение более внимательно.
Можно отнести рождение метафоры «большого халата» к середине XV века. Есть свидетельства, хотя и легендарные, что сравнение пришло извне.
В этом просматривается историческая логика: в ту эпоху Москва явилась Европе – и обнаружила для себя Европу. Исследователи связывают прозрение Московии, до того момента внутренней, закрытой страны, с общими изменениями на карте континента. Падение Константинополя (1453) вызвало ответную реакцию со стороны христианского мира. Европа принялась собирать новый Крестовый поход с целью вернуть Царьград. Москву как православную наследницу Второго Рима призвали к участию; не сразу, но она откликнулась – так капсула ее, прежде замкнутая, наконец открылась.
С того момента началось новое сочинение Москвы; прежде она писала сказки сама о себе, теперь явились внешние сочинители. Образы, ими создаваемые, не все были комплиментарны. Кто-то трактовал Москву возвышенно и всерьез грезил о следующем Риме, иные составляли карикатуры.
По времени это примерно совпадает с открытием Нового Света Колумбом. Тот открыл Америку, Москва саму себя – на карте, в увеличенном, большем мире.
Столкнулись две русские сказки, «лицевая» и та, что с изнанки: большой московский халат распахнулся.
Обычно, рассуждая о халате, мы вспоминаем Льва Толстого и его знаменитый образ в романе «Война и мир».
Глава I, часть V, том IV. Пьер Безухов возвращается в Москву и обнаруживает, что она так же удобна, как старый халат, давно принявший формы хозяина.
Толстой разбирает этот образ очень подробно, сообщает ему философскую глубину, насылает попутное мрачное настроение. Но это поздняя метафора, мы к ней еще вернемся. Интересно то, что она была исторически укоренена – миф о халате уже существовал.
Что такое была древняя «ткань» Москвы?
В доколумбову эпоху московиты были большей частью «водопоклонники». Они недалеко ушли от язычества, толкующего ход времени по образу и подобию движения речной воды.
Вода – вот первая, древнейшая москво-ткань.
Вода текла, бежала, стояла на дне исходной чаши московского рельефа, составляя затейливый узор – на шелке? зеленом бархате? парче, продетой серебром?
Теперь тот древний узор восстановлен на картах столичной гидрографии. Рисунок самый показательный: меандр Москвы-реки, вокруг которого плелись десятки малых рек, впадали меньшие в большие или свивались спиралями в озера размером с лужу и топкие болотца. Все формы линий, пятен, дыр на ту сторону бумаги содержал первочертеж московских вод.
Теперь эта графика большей частью убрана в трубы, закатана в асфальт, невидима, но не следует недооценивать ее скрытого влияния на пластику Москвы. По-прежнему столица течет и вертится на месте, проваливается пустырями, уже безводными, или устремляется бурным мутно-воздушным потоком с очередным новым проспектом куда-то в тартарары. По-прежнему Москва в метафизическом плане есть переменчивая фигура воды, никак не камня.
Наши предки принимали это состояние как норму, единственно возможную. Так, мнилось им, подвижно всякое место. Мысль о том, что город может быть жестко огранен, квадратен, нетекуч, не приходила в их округлые головы.
Если присмотреться, и сейчас можно различить тайное движение московской воды – не серой асфальтовой корки, но именно бегущей темной влаги, к примеру, под тем же Даниловым монастырем на южном отрезке кольца столичных валов. Это одно из первых крещеных мест в Москве. В том и был смысл Данилова крещения: оно составило воображаемую плоскость, христианский плот, лежащий поверх древнего финского струения.
Теперь этот плот-монастырь с одного боку выходит к Москве-реке (на случай бегства? эвакуационный выход от старой к новой вере?), с другого обращается к более или менее хаотическому градовороту асфальта, морской ракушке рынка и Серпуховскому валу, который давно уже не вал, но минус-вал – поток темнейший, темноводный.
Из этого может явиться первое толкование феномена «московской ткани»; кстати, у нее обнаруживаются два слоя – «лицо» и «изнанка» города-халата. После христианизации Москвы ее прежняя вера поместилась как бы ниже этажом, не исчезла, но спряталась, потекла узором тайных нижних вод.
Довольно холодна оказалась нижняя (потаенная) материя; запишем ее как шелк – текучий, переливчатый, льнущий близко к телу.
Есть еще одно сообщение от древних финнов, которое необходимо расслышать, если мы всерьез хотим разобраться с подкладкой здешнего «халата».
Сакральное тождество воды и времени – то и другое течет примерно ровно, внушая мысль о вечности, – подразумевало родство понятий истока и рождения. И далее: место устья, впадения в большую воду, наводило водопоклонников на мысль о конце времен, бесконечности, смерти.
Эта тема никогда не оставляла Москву в покое.
Здесь, в ее широкой дробно-водной чаше, таких «последних» мест, завершающих бег ручья или протоки, было множество. Первые московиты у этих фокусных, время-водо-собирающих пунктов хоронили (спасали) умерших. Археологи отмечают необычайную плотность подобных мест спасения в черте исторической Москвы – в пределах Садового кольца их насчитывалось до семидесяти. Вместе они составляли подобие «заветной страны», в которую из окрестных мест стекались многие паломники. Не только хоронить, спасать, прятать умерших, но и молиться, искать прикосновения души со следующим помещением времени.
Вот что еще очень важно: эти сакральные пункты не сливались в одно сплошное поле, но существовали мозаикой, сложно-раздельно, используя дробный рельеф Москвы для оформления множества «не видящих» друг друга уединенных мест.
Именно в те первобытные времена, когда закладывались исходные представления об устройстве мира, Москва получила имя. В разных вариантах перевода оно неизменно подразумевало воду: «бычья», «медвежья» и даже «мокрая вода» – такова расшифровка названия «заветной страны» Москвы.
Итак, второе свойство московской «нижней ткани» – ее звездчатый, многофокусный состав.
Льется и мерцает: шелк и есть шелк.
Заветная страна, подложенная звездной (отражающей небеса) водно-шелковой подвижной тканью, сокровенная территория спасения-успения – таким был исходный московский статус.
Христиане приняли его, постепенно подняв до чаемого звания «рая на земле». В этом была своя логика, сознаваемая или ощущаемая, об этом им неслышно говорило исходное имя места.
С этим званием, с этой поднебесной амбицией Москва обрела митрополию в 1326 году и церковную независимость в 1589-м.
Интересно то, что много позже, в XX веке, в безбожном Красном Риме статус особой – образцовой – территории Москва сохранила. Так, потаенно, она осталась местом спасения разноверующего или вовсе ни во что не верующего народа.
Так Москва и сейчас верует: самоощущение ее как «заветной страны» остается в силе. В ее сознании по контуру души по-прежнему течет и стелется, собирается в узлы и складки чудная водно-шелковая многозвездная подкладка.
Ею Москва намерена невидимо одеваться (спасаться) – вечно.
С точки зрения положительного градоведения, наблюдающего не контуры души, но сплочения камня, дерева, металла, сюжет о мозаичности исходного устройства Москвы вполне актуален. Столица и сейчас показательно дробна, она не подчиняется никаким «объединителям», находя во всяком проектном спазме возможность сохранить полицентрический рисунок своей исходной ткани.
Это сейчас; тогда же, в разбираемый нами момент первого знакомства с внешним миром, когда на рубеже Средневековья и Нового времени к ее сокровенному самосочинению прибавилась внешняя сказка, Москва вся была ткань, движение легкой (почти целиком деревянной) плоти, ведущей себя в согласии с рисунком повсюду разлитой, бегущей, струящейся, стоящей воды.
Что такое была внешняя сказка о Москве?
Первые европейские сочинители, внешние «перелицовщики» Москвы, были итальянцы, Иосафат Барбаро и Амброджо Контарини; в 1470-е годы они побывали в Москве – оба на обратном пути из Персии в Европу. Возможно, транзит сказался – в их глазах Москва явила собой нечто среднее между Востоком и Западом; тогда-то и явилось определение города-большого-халата, не то татарского, не то персидского.
Новая метафора явилась: не город, но сумма подвижных одежд – узорчатых, местами ветхих, местами золоченых. Москва на глазах иноземцев перекладывала не улицы, но как будто рукава, в десяти местах перекрученные, собранные в складку. Повсюду зияли пустоты, сквозящие ледяным, словно отвалились широкие полы и по ногам подуло.
Контарини наблюдал шевеления москво-ткани из Кремля, где встречался с великим князем Иваном III и его женой, гречанкой Зоей (Софьей), племянницей последнего императора Второго Рима. Дворец их пошатывался, как картонная коробочка – и тут все было движение и сквозняк. Поверх стен, складывающихся и раскладывающихся, тек орнамент из золотых драконов и львов; звери были живы, дерева качали ветвями, горы росли ломкими складками и шатались, как сам дворец.
За узкими окнами дробилась, разбегалась войлоком волшебная земля.
Четыре месяца Амброджо Контарини наблюдал сей дивный сон. Он описал его, не то смеясь, не то всерьез, в письмах домашним. Написал и про халат с пустыми рукавами. Что-то явно приукрасил – так было необходимо: одной из целей его миссии была уже указанная – внушить московскому султану, что его страна есть почти Рим, остается только взять Константинополь…
Ну, эту повесть мы знаем хорошо.
Можно оценить эти наброски как первый залп нелепостей, которыми иноземцы будут угощать Москву из века в век. Много вздора нам явилось в этих внешних сказках, что-то мы повторяем, особо о том не думая, что-то отрицаем с негодованием. Но нельзя не признать, что первый портрет – Москва не камень, но ткань, накидка, цветастый балахон – содержал некую важную правду о Москве. Формальную! Почему нет? Это можно выслушать от итальянцев, больших знатоков внятной зодческой формы.
Их услугами Москва еще не раз с успехом воспользуется.
Кстати, Контарини общался во время своего визита с известным земляком, зодчим Фиораванти, который в тот момент был занят перестройкой кафедрального Успенского собора в Кремле.
Тут обнаруживается очередная малая сказка о московской материи и ее подкладке. Местные камнеделы возвели собор столь вольно, так безмятежно легко переложили края пространства, что храм три раза рушился, складывался как картонный домик. Фиораванти жаловался послу на суету и споры, не менее разрушительные для строительства, нежели дурной расчет или землетрясение (а оно было! оно обвалило в третий раз собор, почти построенный). Но можно предположить, что более чем недорасчет или землетрясение Москве мешал распущенный пояс столичной ткани – большой халат играл, смеялся на ветру.
Контарини уехал, сохранив в душе подвижные кремлевские картины; вослед ему столица гипербореев помахала рукавами.
Фиораванти, кстати, справился с заданием, сцепил пространство железными скрепами; халат – булавками. Собор встал ровно.
Это была уже не подкладка, но лицо Москвы, ее парадное одеяние.
Нужно сказать еще два слова об Аристотеле Фиораванти: упрямый итальянец, более инженер, нежели зодчий, первый всерьез задумался об иной, отличной от Европы системе удержания непослушных московских координат. Он много ездил по стране, забирался высоко на север и далеко на восток, где искал особые строительные обряды, помогающие собирать разреженные просторы – в узел, город, куб.
Не так просто найти закон в пространстве, как будто беззаконном.
Христианство заявило в Москве такой закон: с самого начала оно было своего рода надстройкой над вечной волглой бездной. Над нею – «венецианским» способом, словно на сваях, – поднималась новая столица.
Вспомним «плот» Данилова монастыря: сначала он просто плыл поверх доисторического моря. Соседний с ним Донской стоял уже высоко, на твердом христианском «помосте».
Явился новый «верхний» символ: помост, мостки.
Историк Иван Забелин в конце XIX века пишет о том, что название «Москва» взялось от мостков – «Мостква». Он был неправ филологически, но прав «архитектурно» – помещение Москвы с момента христианизации было раздвоено, духовно-двухэтажно. Мостки новой веры возносились над волнами (болотом? морем?) древних вер.
Возносились, поднимались, спасали – по-прежнему спасения, страну завета искала в себе новая крещеная Москва.
Все это, на первый взгляд, старые сказки.
Однако и новые, петровские и постпетровские, переходящие из XVIII в XIX век, если приглядеться к ним внимательно, в чем-то повторяли исходные (секретные, заветные) коды Москвы.
Здесь именно появляется упомянутый толстовский образ: «Москва = халат». Он развернут в целую главу, выписан подробно и желчно, цитировать его целиком невозможно, поэтому фрагменты.
Итак, Пьер возвращается в Москву из Петербурга, где в очередной раз порвал с женой, бездушной мраморноголовой Элен, где наблюдал, одновременно в счастье и тоске, как встретились на балу князь Андрей и Наташа, как для них нарисовалось будущее, которое для самого Пьера уже невозможно. Наблюдать все это нет сил, поэтому – в Москву.
Из камня – в ткань, парчу и войлок.
Здесь Пьер «почувствовал себя дома, в тихом пристанище. Ему стало в Москве покойно, тепло, привычно и грязно, как в старом халате».
Вот он, бездонный московский халат!
«Московское общество всё, начиная от старух до детей, как своего давно жданного гостя, которого место всегда было готово и не занято, – приняло Пьера».
Далее на три абзаца – подробности теплого московского приема.
И вдруг: «Как бы он ужаснулся, ежели бы семь лет тому назад, когда он только приехал из за-границы, кто-нибудь сказал бы ему, что… его колея давно пробита, определена предвечно и что, как он ни вертись, он будет тем, чем были все в его положении… что он есть тот самый отставной московский камергер, тип которого он так глубоко презирал семь лет тому назад. Иногда он утешал себя мыслями, что это только так, покамест, он ведет эту жизнь; но потом его ужасала другая мысль, что так, покамест, уже сколько людей входили, как он, со всеми зубами и волосами в эту жизнь и в этот клуб и выходили оттуда без одного зуба и волоса».
Если бы они выходили – их выносили, завернутыми уже не в халат, но в саван. Мгновенно, разом – хлопнули полы московского халата, и нет отставного камергера.
Он пропал в «подкладке», в бездне хладных, будто бы шелковых вод.
Так Толстой разом показывает халат Москвы и выворачивает его наизнанку. Халат оказывается хорош и плох, тепел и студен одновременно. Такова «двухэтажная» метафора: плюс и минус сведены вместе, московские одежды оказываются для Пьера прекрасны и ужасны одновременно. И это правильная, многослойная, истинно московская метафора.
Можно с уверенностью предположить, что Толстой знал некие анонимные народные речения на этот счет. Многие он нашел у Даля и вложил в уста Платона Каратаева.
Что-то оставил при себе: «душе тепло, а снизу дует» – это точно о Москве, так она запахивает свой безразмерный халат. «Смерть к телу ближе рубахи» – тут следовало бы написать «ближе халата». Она близка, отверста прямо под ногами, течет незримою водой.
«Нет ни ничтожного, ни важного, все равно: только бы спастись от нее как умею! – думал Пьер. – Только бы не видать ее, эту страшную ее».
Ее – последнюю прореху в обманчиво-двуслойной московской ткани.
Двоение Москвы Толстой сознавал или ощущал безошибочно, оттого что сам был раздвоен на «лицо» и «подкладку», на верх и низ, христианина и язычника.
История его рода, драматически раздвоившегося в XIV веке после мезальянса князя Волконского и местной финской девы, первая о том сообщает. Лев Николаевич ясно сознавал свою роковую «двухэтажность» – неслучайно слово «бастард» было для него столь болезненно важно – и потому отлично различал конфликтные слоения Москвы. Он сочувствовал ей, оттого и писал о ней столь верно и с такой страстью. Он боготворил Москву и одновременно страшился бездны, под ней отверстой. Отсюда эта сложная пара в пассаже из романа «Война и мир»: отдохновение и ужас, покой и сквозняк, который дует смертью, – лицо и изнанка большого московского «халата».
Отсюда же другая, высокая, страсть, которую мы теперь не всегда у него различаем. Толстой с юных лет искал повода для нового крещения полуязычницы Москвы – и полуязычника себя. Не просто крещения, но спасения («только бы не видать ее, эту страшную ее»).
Наилучший, судьбоносный повод он нашел в событии 1812 года. Тогда, по его убеждению, Москва была крещена огнем.
Жертва ее была родственна евангельской. Этого события, по его мнению, не распознали современники, увлеченные турбуленциями грозного военного бытия. Стало быть, его, Толстого, высшее задание – озвучить, расшифровать суть огненного крещения, составить новое предание для преображенной Москвы.
Одновременно в этом духовном усилии – не писателя, но демиурга, творца новой истории – Толстой рассчитывал перекрестить себя, спасти тем же огнем, изгнать «нижнюю» влагу из своего одушевленного устройства. Жестокое усилие! Толстой по своей природе был «водяной» человек, колдун и влаговидец. Он родился и вырос в Ясной Поляне, заветном волглом месте. Усадьба стоит на пологом холме, от основания до вершины проникнутом водой. Языческий, сакральный локус; духи бродят по окрестным дубравам и рощам, прячась в тумане, что поднимается в полночь от черной воды в реке Воронка.
Река Воронка – вот, кстати, двухэтажное название: в нем и черная «вороная» вода и дырка куда-то вниз, в неразличимое древнее пространство.
Разумеется, Толстой сознавал и ощущал это своим верхним ясным умом и темными финскими потрохами. Иначе не писал бы столь откровенных, гипнотически убедительных глав об охоте и Святках – языческих, тут нет ни малейшего сомнения.
Оттого крещение себя огнем вместе с Москвой 1812 года было для Льва Николаевича той еще пыткой: он тщился отсечь от себя половину – исходную, нижнюю. Не отсечь, а отжечь, высушить себя до пяток.
Так Москва стала у Льва Толстого новым Римом.
Он решил переодеть ее (из халата в тогу?).
Римские аллюзии в описании Москвы 1812 года были для него решающе важны. Еще в университете, в Казани, начинающий нумеролог Толстой высчитал, что великую римскую битву 1 сентября 312 года, в которой император Константин одолел язычника Максенция и объявил начало христианской эры, отделяют от Бородинской битвы 26 августа 1812 года ровно 1500 лет. Пять дней не в счет, они могли набежать за это время в кувыркании старых и новых календарей, стало быть, на большой спирали истории для Толстого это была как будто одна и та же битва.
Для него это не могло быть случайно. Христианизация Рима оказалась в понимании Толстого хронологически «равна» христианизации Москвы. Он так и пишет о московской битве: подкладывает под нее Константинов миф, насылает на Пьера Константинов сон, поднимает солнце над Москвой-рекой так, как если бы она была Тибром, и прочее. Правда, при этом ему приходится повернуть карту под прямым углом, но что такое прямые углы для Москвы? Сходство метафизическое достаточно очевидно для Толстого, чтобы оглядываться на какие-то углы.
И далее: Рим спасся, заново уверовал – пусть и Москва спасется, уверовав согласно его, Толстого, новому преданию.
Замечательно то, что Москва не сразу, но приняла римскую реконструкцию Толстого. Прочитав его сакральный текст, сначала она отвергла неофита (просто не потрудилась задуматься о глубине его прозрений – как он страдал тогда, после первого издания романа!), но затем вчиталась, вкатилась в его безразмерный текст, узнала себя и уверовала.
Переоделась! Просунула руки в рукава бумажного халата-романа, забылась в счастливом литературном сне.
Метафора толстовского халата оказалась верна; тем самым была верифицирована исходная формула лукавых итальянцев: да, Москва есть большой халат.
Они были веселы, он чрезвычайно серьезен. Потому и победил со своей римской «выкройкой». Никто не оказал столь мощного влияния на оформление новой Москвы, как яснополянский «портной» Толстой.
Это, кстати, со всей силой сказалось в XX веке, когда Москва вернула себе столичный статус и сделалась Красным Римом. Сталинский стиль был только наполовину «римским» – на верхнюю, лицевую половину. Изнанка же его была сплошь литературной, словесной, толстовской.
Все верно в предположении о подвижной ткани, «лице» и «изнанке» Москвы. «Лицо» громоздится, веселит, пугает, но не менее сильна объемлющая сознание «изнанка», что состоит из слов, течет чернилами, рассыпается буковками! Нет, никуда не делся большой халат Москвы; в XX веке он разросся наяву, «наверху» непомерным мегаполисом, «внизу» же растекся галлюциногенным московским текстом.
Итак, метафизическая ткань московского «халата» представляет собой многослойную и многофокусную мозаику, дробь святых мест, имеющих каждое своим основанием собственный заветный пункт на карте. Как будто множеством корней московская клумба уходит в глубину неназываемой, безымянной древности. И в каждом таком укорененном пункте – их нетрудно различить по присутствию храма или знака, от храма оставшегося, даже если этот знак отмечен зияющей пустотой в месте сноса, – в каждом фрагменте этой мозаики, каждом сокровенном уголке Москвы можно расслышать спор между верхом и низом, светом и водой. Глубинный, вечный спор, соревнование сакральных сочинений.
Большое сочинение необходимо, оно электризует аморфную ткань здешнего охлажденного недо-пространства. Если перестать сочинять, Москва уснет навеки.
Другое дело, что делать это нужно с умом, хотя бы с некоторым представлением о сложности московской мозаики. Иначе в прорехи столичного халата повысовывается бог знает что.
Да уже высовывается, лезет изо всех дыр; пустота (в головах) довольно плодовита.
Так, кстати, работает третий материал, или, точнее, минус-материал, столичного «халата». Кроме расписной лицевой стороны, что смотрит из Москвы вовне, кроме сокровенного струения водной шелковой подкладки, есть еще сумма дыр, прорех и трещин – пустыри, щели, разрывы, разбегающиеся антирисунком по образцовому плану Рима № 3.
Вакуум хорошо знаком столице – метафизический, неявный, а также явный, проявляющий себя временами в безумном саморазрушении Москвы. В ее пустотах и провалах являются совершенные пластические нелепости. К ним можно отнести, к примеру, большинство новейших московских монументов, кому только не посвященных. Вот истинные дети вакуума! Понятно, что в каждом отдельном случае сказывается та или иная конъюнктура, корыстный интерес ваятелей, в чем разбираться нет интереса. Но есть и общее, что необходимо отметить: вся эта варварская пластика родится в условиях стилистического разрыва, когда современный город перестает соответствовать во времени самому себе, теряет подвижно-водный образ, отказывается от традиции и становится исторически гол и нелеп.
Голы и нелепы эти странные фигурки, не вписывающиеся в сложный московский пейзаж. Город спит или пребывает в темном трансе, не в силах оказать сопротивления напору этих диких полуформ; старый халат на нем сбился, явил небесам потертости и дыры древней ткани – из них и повысовывалось.
Откуда берутся эти несчастные разрывы? Есть парадокс: Москва в своем потаенном «нижнем» слое, Москва как текст, развита необычайно; ее слово о себе многомерно, плюс- и минус-пластично, исторически глубоко и убедительно. И при этом «наверху», в реальном пространстве, зачастую все обстоит наоборот: Москва наряжена, как правило, аляповато, халатно, внеисторично, стилистически неглубоко и совершенно неубедительно.
В принципе, этот парадокс сам себя и объясняет. Москва унаследовала цареградскую традицию восприятия мира как Божия текста. Слово явилось ей с юга готовым, сложным, многомерным. С таким пространство-словом в голове нетрудно забыться, отвернуться от реального пространства, сурового, нерасчерченного и некомфортного, когда «снизу дует». Москве легко сосредоточиться на словесной грезе, согревающей ее сознание.
Мне говорил один филолог, говорил со страстью и убеждением: у нас, в тексте (речь шла о Чехове), – все прекрасно, а у вас – все ужасно.
У кого это «у вас», кстати?
Вот вам и объяснение московскому парадоксу: не оттого ли у нас снаружи все ужасно, что внутри, в самозабвенном здешнем тексте, все самодостаточно прекрасно?
Образованнейшие, чистые, возвышенные люди, я имею в виду филологов, наевшись букв, ходят точно с бумажными мешками на головах, брезгливо отворачиваясь от реальной Москвы. Завернулись с головой в текст-халат и совершенно удовлетворены этим своим мирозамещением.
Но это сущая болезнь – сверхчтения, неразличения реальных плотных форм.
Теперь мы наблюдаем повсюду следствия прекрасно-ужасной московской болезни.
Москва, как ткань, раздергивается по ниточкам-экскурсиям, фразам, предлинным текстам. Она делается одномерна, ущербна в сравнении с собою же многомерной.
– Разумеется, одномерна! – говорит мне с пламенем в глазах другой москвофил, музейщик, глубокий знаток прошедшего. – Она соткана из паломнических маршрутов: от храма к храму, от иконы к иконе. Она так изначально себя видела, видит и сейчас.
Она не так изначально себя видела! В основе ее особого смотрения всегда лежал принцип диалога, спора, конфликта двух взглядов, двух сторон московского «халата» – лицевой и изнаночной, света и воды, пространства и слова. И это двоение, этот спор, провоцирующий Москву на перманентное сочинение о себе, много интереснее, потенциально полнее одномерного сведения ее в один тотальный текст.
Попытки истолковать Москву одномерно-текстуально не более чем прятки, бегство от большего измерения, страх римской ответственности за устроение реального пространства.
Московская материя знала другие времена, когда ее кроили «зряче», глядя двумя глазами, с учетом исторической ретроспективы – и перспективы, в контексте большого столичного проекта.
Нам трудно оценить в полной мере опыт пространственного сознания Средневековья: словари смыслов слишком разны. Зрение человека XIV века, первостроителя Москвы как столицы, настолько отлично от современного, что легче предположить, что мы думаем о разных городах.
Можно вспомнить о классике, пришедшей в Москву в XVIII веке, – по времени это «переодевание» Москвы нам ближе и понятнее. Это был масштабный конфликт, не просто стилистический, но концептуальный, философский, богословский. Московский «халат» тогда весь пошел складками. После переноса столицы в Петербург портрет Москвы смешался, стал пестр и не-един. Но даже в то спорящее время Москва нашла в себе довольно сил для сочинения, украсила себя шедеврами, по сей день неоспоримыми. Довольно вспомнить один Пашков дом и за ним всего Казакова, оставившего нам разрозненное созвездие образцов русской классики.
Увы, сводный образ Москвы конца XVIII века как пейзаж одушевленный мы сегодня можем только вообразить: пожар 1812 года, Наполеоново разорение унесли тот Рим, как дым.
Послепожарная Москва смогла нарисовать себя заново; мы и сегодня воспринимаем ее очередной автопортрет как некий хорошо узнаваемый образец. Приход внешнего пространства, явленного максимально жестким образом: в реалиях войны, прямого военного вторжения, Москва смогла преодолеть, преобразить себе на пользу.
Это было зрящее действие, вполне результативное. Материал Москвы умножился в своей сложности, сохранив исходную столичную «триаду» – лицо + подкладка + между ними прослойка пустырей и сквозняков.
Чрезвычайно интересен опыт начала XX века, когда в дело пошли острые ножницы конструктивистов. Их новый московский «крой» остался большей частью в теории, в помещении проектной грезы. Но это была выдающаяся греза, сохранившая, как это ни парадоксально, черты Москвы – мечтающей, сочиняющей себя для будущего, до времени неразличимого.
Поэтому неправда то, что она только читает себя и не желает видеть; филологическая хворь никогда не владела ею целиком. Всегда Москва жила с глазами, умеющими смотреть и внутрь, и вовне себя.
Вопрос – в готовности к новому пластическому сочинению, в тексте и наяву. Дождемся ли мы очередной фантазии (безбашенного? напротив, многобашенного, многоголового) москво-модельера – во что еще может превратиться необъятный московский «халат»?
Разумеется, желательно – очень бы того хотелось, по крайней мере помечтать-то можно? – чтобы следующие метаморфозы Москвы учитывали особенности ее сознание-образующей материи. Речь не только о камне, дереве, стекле, металле или ненадежном пластике. Эти хрупкие плотности для Москвы не более чем верхушка, окончательное оформление того внутреннего движения времени, которое предопределяет ее пейзаж. Речь не только о слове как второй, невидимой материи Москвы. Речь о сумме ментальных связей, системе городской памяти, которая сохраняет как некое пестрое целое историческую мозаику Москвы. Можно применить метафору поля – магнетического, властного, способного удерживать вместе противоречивые фрагменты столичной мозаики.
В Москве это поле подвижно, текуче, водоподобно, но действенно.
В этом сознающем поле незримо сохраняются формообразующие сигналы прошедших эпох. Древнейшие заветные места сохраняют многофокусность, полицентризм материи Москвы. Теперь это исходное созвездие связано клубком коммуникаций – утилитарных, неутилитарных, паломнических, текстуальных, жужжащих, живущих, неостановимых. Сей линеарный вихорь первый в Москве заметен, но он лишь часть ее – кровоток, времяток. Есть в столице и сумма пространств, отличных от статических европейских, – пластичных, нестойких, нервных.
Москва – арена перманентного спора этих подвижных пространств.
Стоит пройтись по Тверской, чтобы почувствовать градус этого скрытого спора. От низко лежащей Манежной, заваленной ныне каким-то нечитабельным новоделом, – вверх, через перекресток, где слева почтамт, а справа опять фигурки, взятые из театрального закулисья. Затем еще выше, там подобие площади, только подобие, полуплощадь, что клонится слева направо, от большого Моссоветова дома, вылезшего из земли на один лишний этаж (тут власть! беги от нее подале), валится через голову князя, сидящего на черно-чугунной кобыле, куда-то вниз, в коммунизм, в прокуратуру, в Столешники. Нужно миновать полуплощадь и двинуться далее вверх по Тверской, чтобы через три шага получить в оба уха дуновение, ураган, немолчный сквозняк бульваров. Тут следует остановиться, ибо историческое нагромождение Пушкинского перекрестка так велико и громоздко, что его не разобрать в подобном кратком очерке. Однако довольно и этой недолгой прогулки, чтобы почувствовать, с какой страстью Москва мнет, растягивает и рвет свои безразмерные материи. Ее материальный ландшафт, ее бесконечный текст скроены на живую нитку. Они суть ткань – понятно чего – все того же полупустого столичного «халата». Того, что дыряв, расшит парчой, хладен с изнанки и «снизу дует».
Хотелось бы, мечталось бы, чтобы следующие закройщики Москвы помнили о нем, осторожнее щелкали ножницами, семь раз мерили и только потом резали.
Московская ткань многомерна. Ее невозможно удержать в рамках одной единообразной городской модели. Движение «халата» очень скоро такую модель разрушит. Столица переложит мятые рукава, хлопнет ветхими полами – все переменится.
Москва более, чем город. Нужно раздвинуть рамки привычного измерения: если она более, чем город, то – страна.
Москва = страна; эта формула куда более пластична, она допускает движение столичных шелково-звездных корпускул, их сложное взаимодействие, притяжение и отторжение вплоть до разрыва привычного городского ландшафта.
Городов в ней множество. На уже упомянутом тверском маршруте их, как минимум, три: Манежный, Моссоветов, Пушкинский. Всего же – трижды по тридцать три или более. Их соединяет легкая (каменно-тяжкая) москво-ткань, местами плоть, местами пустота.
Следует понять самое простое (самое сложное): Москва сама себе портной. Она – самосочинитель, ищущий спасения, как и положено «сироте», отторгнутой от «родителя» Царьграда. Оттого она и привлекает в таком множестве сочинителей, ищущих в ней, как сирота Толстой, не просто сочинения, но спасения.
Сегодня московское сочинение поспешно, грубо подчинено корыстным мотивам, но все же это не сон, не разрыв бытия во времени.
Нужно только смотреть внимательно, расширенно-сосредоточенно на все волнения и складки разбросанных московских одежд. Подобное наблюдение может быть вознаграждено зрелищем большего города и даже страны, не помещающейся в привычные архитектурно-литературные рамки, но помещающейся – в халат.
Опубликовано в журнале «Октябрь» 2017, №9-10.










 Записи
Записи


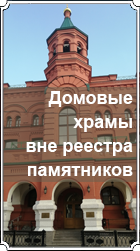


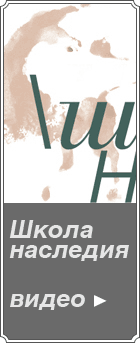



1 комментарий