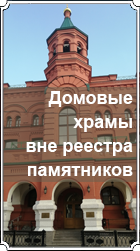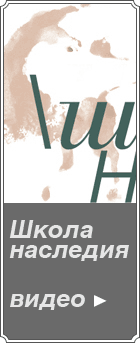Парадокс об Останкине
На 9-й день после кончины Геннадия Викторовича Вдовина мы републикуем его текст, подготовленный для научной конференции «…Дворец-театр в Останкине в контексте международного опыта реставрации и сохранения дворцовых комплексов: новый взгляд на старые проблемы». Конференция прошла 15-17 сентября 2014 года. Вторая авторская редакция текста, предлагаемая вниманию читателей, опубликована спустя пять лет в альманахе Союза российских писателей «Лед и пламень» (2019, № 5).
Музей-усадьба Останкино ждет назначения нового директора на место Вдовина, избранного коллективом 28 лет назад. В подобных случаях есть опасность получить стороннего «оптимизатора» и «эффективного менеджера», первым вопросом которого будет: «А почему так медленно движется реставрация?» Этому гипотетическому «варягу», и даже только кандидату в «варяги», следует начать с чтения виртуозного вдовинского «техзадания».
Геннадий Вдовин
Несколько тезисов к экзегетике Останкинского ансамбля, или Вместо предисловия к техническому заданию на проектирование и производство реставрационных работ
4 И сказали они: построим себе город и башню,
высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели
рассеемся по лицу всей земли.
5 И сошёл Господь посмотреть город и башню,
которые строили сыны человеческие.
6 И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех
язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они
от того, что задумали делать;
7 сойдём же и смешаем там язык их, так чтобы один
не понимал речи другого.
8 И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они
перестали строить город.
9 Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал
Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь
по всей земле.
Быт. 11: 4–9
Спектакль подобен хорошо организованному
обществу, где каждый жертвует своими правами для
блага всех и всего целого. Кто же лучше определит
меру этой жертвы? Энтузиаст? Фанатик? Конечно, нет.
В обществе — это будет справедливый человек, на
сцене — актёр с холодной головой.
Дени Дидро. Парадокс об актёре
1. Заимствуя лекало заголовка у одного из самых популярных авторов XVIII столетия, позволю себе посвятить своё размышление парадоксальности самой идеи Останкина. И смысл моего текста — не столько в констатации противоречивого, по нашей постромантической мерке, замысла усадьбы, но в привлечении внимания к тому обстоятельству, что эта противоречивость замысла останкинского ансамбля не может не обусловливать наши реставрационные помыслы, если не хотим мы эффекта вавилонского.
2. Между тем всякий незавершённый замысел неотменно провоцирует наследников на окончание, доделывание, соавторство.
Будем откровенны. Среди всех наследников и мы — нынешние исследователи и реставраторы Останкина, подверженные искушению содеяния, греху подмены, собережения соделыванием.
3. Кроме того, заметим, мы имеем если не свеже-, то не так давно состоявшийся «казус Царицына», продолжающий пугать москвичей и россиян всякой реставрацией подлинного памятника, в том числе и останкинской реставрацией, как угрозой кардинального новодела.
4. Приступая, вместе с властью, профессиональным гражданским сообществом к проектированию идеологии реставрации, мы задумались над особенностями замысла комплекса в Останкине.
Над теми специфическими чертами, что его обусловливают.
5. Попытаемся, наконец, их обозначить.
5.1. Останкино, в отличие от вседоступного Кускова, задумывалось как место для избранных. Стало быть, мы имеем дело с антиномией «общедоступное — элитарное».
И проект реставрации и приспособления предлагает нам не так выбрать меж «популярным — избранным», как найти пресловутую середину меж ними в реставрации и приспособлении элитарного памятника.
5.2. Зиждя Останкино, гр. Н.П. Шереметев неотменно полагал, что строит памятник на века, о чём не раз упоминал, в том числе и в завещательном письме сыну. Однако, воздвигая абсолют классицистической вечности, он постоянно его перестраивает и совершенствует. Граф умирает, продолжая утверждать, что Останкино недостроено. Тем самым речь идёт о противоречии «завершённое — незавершённое».
5.3. Означенная только что проблема «finito — non finito» (1) впрямую выводит нас на вопрос об авторстве дворца и ансамбля в целом. Многие поколения исследователей положили годы на утверждение двух концепций.
Если коротко, то учёные 1900–1920-х годов доказывали авторство гранд-зодчих: Ф. Кампорези, Дж. Кваренги, И. Е. Старова, В. Бренны, при участии крепостных П.И. Аргунова, Г.И. Дикушина и др., в качестве прорабов и соавторов. Эту точку зрения поддержали исследователи 1980-2010-х. И, не скрою, аз многогрешный в том числе.
Изыскатели 1930–1970-х годов, исповедуя идею С.В. Безсонова о значимой роли творчества крепостных в истории русского искусства XVIII — первой половины XIX века и вдохновившись разработками К.А. Соловьёва, настаивали на концептуальном первенстве подневольных зодчих. Проект «Останкинский дворец-музей творчества крепостных» второй половины 1930-х годов, насмерть напуганного отсидкой по делу промпартии Соловьёва, основанный на мыслях форсоца (формалиста-социолога. – Ред.) Безсонова, дал блестящие результаты: был сохранён памятник, была сохранена коллекция, был сохранён коллектив.
Будучи одним из тех исследователей, кто документально доказывал, что И.Е. Старов и В. Бренна дистанционно проектировали дворец в Останкине, и продолжая настаивать на этой точке зрения, вместе с тем твёрдо констатирую, что подлинный автор и дворца в Останкине, и усадебного парка, и, стало быть, ансамбля в целом — Н.П. Шереметев.
Значит, вопрос… Мы реставрируем проект Старова, Бренны, Кваренги, Кампорези, Аргунова, Дикушина — или незаконченный замысел Шереметева?
Итак, мы делаем «finito» или «non finito»?
«Finito» архитекторов, скульпторов, живописцев, мебельщиков, позолотчиков, паркетчиков — или «non finito» безвременно усопшего демиурга-заказчика?
5.4. Восстанавливая замысел по сценарию «finito», мы можем себе будто бы позволить достроить всё недостроенное.
Реставрируя проект по режиссуре «non finito», мы трезво решаемся на сохранение и консервацию всего незаконченного.
5.5. Проблема «finito» или «non finito», помимо всего прочего, толкует нам о выборе материала для реализации замысла реставрации.
Решение «finito» позволяет воспроизведение замысла в иных материалах, ради трансляции задуманной вечности и толп счастливых посетителей, приходящих круглосуточно и во все сезоны.
Вывод «non finito» понуждает принять памятник как целокупность, как Gesamtkunstwerk, как произведение не только художества, но и инженерного искусства, не так «грандарта», сколь технологии.
5.6. В этом контексте во всю мощь встает антиномия «дерево — камень».
Строя «памятник на века» из дерева, украшая его искусственным мрамором, расписной бумагой, папье-маше и подводя под него минимальные фундаменты, Шереметев не видел в том противоречия потенции замысла с применёнными технологиями. Мы можем лишь полагать, что демиург, в своём почтительном просветительском богоборчестве, предполагал в итоге закрепить идею в вечных материалах, но этого не произошло.
Более того, мы отчётливо видим, как наивный деревянный домик Наф-Нафа стратегически и планомерно отвергал новейшие технологии имени Ниф-Нифа и Нуф-Нуфа. Он изверг из себя модный и всеспасительный асфальт второй половины XIX века. Он отторг бетонные стяжки середины ХХ столетия. Он презрел синтетические смолы второй половины прошедшего века… Наивное незавершённое «дерево» планомерно побеждает всеутвердительный «камень» вот уже третье столетие.
5.7. Так почему же «монумент на века», в коем, согласно показаниям, явлены «знания и вкус» богобоязненного заказчика и демиургирующего автора, решён в дереве и иных органических материалах?
5.7.1. Соображения акустики, коли мы имеем дело с ансамблем с театральным залом в центре.
5.7.2. Возможность наискорейшей переделки содеянного, вслед за наибыстрейшей переменой замысла.
6. Не поминая всуе, сколько храмин из мраморов, кирпичей и желез пали жертвой времени, отметим, что, стало быть, сама пластичность идеи монумента «на века», сработанного в органических материалах, обусловливает его исключительность и живучесть.
7. Выходит, что «деревянность» и «элитарность» Останкинского дворца и усадьбы в целом — предикаты. И являются не только предметом охраны во всех составляющих, но и задачей музеефикации.
8. Задача музеефикации впрямую обусловливает цели реставрации, приспособления и эксплуатации ансамбля.
Ансамбля, между тем, мифологического.
9. Останкино как миф эпохи.
9.1. Останкино — миф рубежа XVIII и XIX столетий, подобно тому как мифологически же бытовало в культуре середины — второй половины XIX века Кусково. Современники отмечали наследование мифу мифа, Кускову — Останкина, П.Б. Шереметеву — Н.П. Шереметева, что закреплено, к примеру, в известном величании последнего «Крёзом-младшим».
9.2. Вне мифологических представлений, вне устойчивой мифологемы невозможно понять подобные явления культуры, поскольку такой анализ будет деформировать особенности и художественный образ конкретного памятника, существенные черты культуры вообще.
9.3. Останкинский комплекс и замышлялся как миф. Мифологично само его созидание: глухой высокий забор, «караулы», поимка лазутчиков» и др. — что это, как не попытка инспирировать некий демиургический акт, волевой «авторский жест», творение в одночасье, то есть по мановению.
Примечательно, что все годы (1792–1798) стройка была окружена строжайшей тайной. «В большой дом и протчия (места. — Г.В.) приезжих из господ и одним словом никакого звания, хотя бы и из родственников моих ближних, кроме тех мастеровых, которые при строении находятся в работе, отнюдь никого не впускать». Это распоряжение графа от ноября 1792 года много раз повторяется впоследствии. Меры предпринимались нешуточные: «Для предосторожности ж, чтоб снаружи в окошки не могли и то смотреть, то окна снизу и снутри заколотить толстым холстом; для воздуху ж, когда понадобится, то отворять одни верхние». Предосторожности не ограничивались периметром строящегося театра-дворца; тайна окружала всю созидаемую усадьбу: «Большой мост в Останкове рогаткою и закинуть, но для одного виду, что будто исправляется оный починкою, разобрать несколько брёвен непременно, а для проезду на случай сделать небольшой (мост. — Г.В.) внизу». И уж, конечно, «из определенных (графским указом. — Г.В.) гусар иметь беспрестанный день и ночь караул». Строгости распространяются даже на тех художников и мастеров, которые работают в Останкине, например, на замечательного мебельщика Павла Споля: «Делать, наблюдая при том, чтобы Споль, где не должно ему быть, во внутренности большого дому отнюдь не допускаем был…» Но тот же Споль, работавший не только у Н.П. Шереметева, но и во многих других московских домах и подозреваемый, соответственно, в художественном шпионаже, используется если не в качестве контрразведчика, то, по крайней мере, в роли прикрытия и шпионской «наживки»: «Попросить Споля, чтобы он с тобою (А. Агаповым, тогдашним останкинским управляющим. — Г.В.) съездил в новостроящийся дом графа Безбородки, где тебе сделать замечание, нет ли каких новостей и редкостей, как-то в убранстве и прочем и представить ко мне; Сполю ж оного не объявлять». Естественно, что в этой обстановке всеобщей подозрительности любой пришлец видится шпионом и поступают с ним жестоко: «На представление от Агапова, по случаю открывшегося обстоятельства с французом, который снимал вид Останькову, нахожу что поступлено с ним весьма неразсудительно и сурово, то впредь в подобных сему случаях, дабы посторонние не могли быть допущаемы к рассматриванию останьковских строений, наблюдать предосторожность, хотя и должно, но надлежит рассматривать важности проишествиев и человека, а потому, соображаясь, и следует обходиться порядочным образом и объяснять более на словах, а грубых и неприступных поступков не делать».
Зачем столько предосторожностей при совершении «величайшего, достойного удивления и принятого с восхищением публикою дела»? Быть может, сами отзывы современников и мемории, записанные со слов участников, отвечают нам? «…Когда император Павел изъявил желание своё посетить Останкино, граф Н.П. Шереметев приготовил ему сюрприз: лишь только государь стал проезжать местность густой рощи (Марьиной рощи, тогда густой. — Г.В.), вдруг, как из под распахнутого занавеса, открылась ему полная панорама Останкина — дворец, широкий зеркальный пруд, перед ним прекрасный фасад церкви и сад со всею улыбчивою окрестностью своею. В ожидании императора сделана была от начала рощи до самого Останкина просека, у каждого надпиленного дерева стоял человек и по данному сигналу сваливал дерево. Император чрезвычайно удивился внезапной перемене декораций, долго любовался ею и благодарил графа за доставленное ему удовольствие».
Все эти «вдруг», «внезапно», «неожиданно», которыми изобилуют описания современников, открывают нам то, что можно назвать «останкинским мифом», мифом о творении в одночасье, мифом «потёмкинских деревень», мифом России XVIII века, мифом, берущим своё начало в чудесном явлении Санкт-Петербурга средь «топи блат», никогда не умиравшем (Быт. 11: 6), живущем и ныне в вечных россказнях о строительстве «за одну ночь» и «без единого гвоздя». Ради этого впечатления, ради этого чудесного явления, ради этого дива было предпринято столько удивительных предосторожностей и шпионских экзерсисов.
Все те же валящиеся деревья (начало, первое действие празднества — отсюда их исключительная знаковая роль) — воссоздание мифологического сего творения, модель его, повторение для «первого лица государства». В настоящей работе не место доказательству или опровержению известной идеи Малларме, высказанной в не менее известном письме к Верлену, о «первомифе», едином для всех национальных и расовых общностей, но невозможно не заметить, что для русской культуры XVIII столетия такой «первомиф» о «первотворении» был задан в 1700-е годы «рождением из топи блат» Санкт-Петербурга. По этой богоборческой модели «творения в одночасье» структурируются многие мифологемы эпохи (2), особенно — усадебные. «Останкинский» миф — пример тому.
Мифологема творения в одночасье, восходящая в истоке к Ветхому завету (Быт. 1, 1–31), устойчива и продолжает действовать спустя столетия: случайно ли массовое культурное сознание порождало и порождает вариации на тему этой архетипической мифологемы — россказни о построении в одну ночь дворца, о созидании за то же время пруда, о строительстве «без единого гвоздя» и др.? «Так миф, который трансформируется, переходя <…> в конце концов изнемогает, однако не до такой степени, чтобы исчезнуть. Остается ещё одна альтернатива: путь романтической разработки и путь использования мифа с целью узаконить историю.» (3)
Один из первых поэтов «подмосковных» Ю. Шамурин писал, что «все эти легенды однообразны и не обнаруживают особенного полёта вдохновения: в них сквозит не только одна тревожная боязнь, что ещё не совсем исчезло тяжёлое прошлое, но есть память о нём, более прочная, чем наше восхищение архитектурными чудесами усадеб». (4) Однако не в том ли дело, что эта память соединена, сплавлена с «их» восхищением архитектурой усадеб, с их своеобразным эстетическим чувством, с их представлением об Эдеме?
9.4. Итак, посетитель усадьбы Останкино в XVIII столетии видится автору усадьбы в двух ипостасях — восхищённого, но постороннего зрителя и заинтересованного, равного в интенциях и сомасштабного в инвенциях автору знатока. Первая модель принадлежит более середине века, временам «Крёза-старшего», эпохе П.Б. Шереметева, пускавшего в свой кусковский «вертоград» всех «одетых с приличностью». Николай Петрович искренно привержен классицистическому вкусу с обостренными принципами амбивалентного авторитета, служащего как «правде», так и «кривде», подобно тому, например, как эпоха признавала и амбивалентную мораль.
Приметим, что место первых — более экстерьер, фасадические виды дворца и ансамбля в целом. Другие, пусть даже и подозреваемые в шпионаже, по свершении замысла достойны всей полноты картины и сущности идеи.
Однако замысел принципиально бесконечен, по сути, нескончаем, откуда и выбор материалов (дерево, бумага, папье-маше и др.), властвующих здесь.
9.5. Сам выбор материала — дерева — обусловлен не только и не столько требованиями акустики, и уж тем более не легендарной «традиционностью» этого материала в России, но, главным образом, обеспечением мобильности постройки и экономии времени. Изначальная установка на беспредельное совершенствование становящегося, развивающегося мифа диктовала выбор материала.
9.6. Сама сложная и запутанная для современного исследователя возможностями многочисленных противоречивых версий история создания комплекса, множество имён, бесконечное и не останавливающееся совершенствование, активная чрезмерно (сравнительно с аналогичными современными ситуациями) роль заказчика — что это всё, как не попытка создания образца и, следовательно, мифа: «Украсив село мое Останкино и представив оное зрителям в виде очаровательном, думал я, что, совершив величайшее, достойное удивления и принятое с восхищением публикою дело, в коем видны мои знания и вкус, буду всегда наслаждаться покойно своим произведением».
9.7. Миф — и сама краткая и яркая судьба памятника, мгновенный его расцвет.
9.8. «Потёмкинские деревни» как культурный миф второй половины XVIII века и Останкинский усадебный комплекс.
Подобно тому как «потёмкинские деревни», вопреки современному пониманию этого фразеологизма, не были призваны никого обманывать, вводить в заблуждение, «имитировать» что-либо (5), но были неотъемлемой частью созидаемого мифа («новороссийского прожекта»), так и природа Останкинского дворца не предполагала однозначной «обманной», «имитационной» идеи. Симптоматично, что известное замечание Понятовского — «бельэтаж весь деревянный, но с таким искусством отделанный и украшенный, что никогда нельзя было бы и подумать, что он сделан из дерева», — опровергающее, казалось бы, наш тезис, свидетельствует при внимательном прочтении, что истинной природы не скрывали, но и преподносили, «рекламировали», рекламируя тем самым и миф. Вообще, риторические эффекты классицизма строятся не на обмане (имитации), но на сосуществовании, параллельном бытии, замещении. «Потёмкинские деревни» («новороссийский прожект») — едва ли не вершина мифотворческих интенций эпохи — легализуют и заявляют механизм функционирования риторических эффектов зрелого классицизма, законы его мифотворчества.
Продолжая сравнение «новороссийского» и «останкинского» мифов, отметим адекватность считывания мифа: устойчивость сравнения с «арабскими ночами», празднествами «великих моголов» и др. (6) Сходство сравнений (к ним можно присовокупить и проводившуюся современниками аналогию с празднествами в Таврическом дворце) отчётливо демонстрируют цели авторов, создателей мифов, и результаты, коих они достигали.
Только в мифе, а не вне его, возможно истинное постижение природы останкинского комплекса, как, впрочем, и большинства усадеб XVIII — начала XIX в. (7)
10. Останкино как развивающийся миф.
Созданная в конце XVIII века на северной закраине Москвы семиотическая структура по принципам «великого феатрального метаморфозиса» оказалась наделённой могучим мифологическим потенциалом, далеко выходящим за пределы эпохи своего расцвета. Тем актуальнее проблема его генезиса и его эволюции.
10.1. Останкино, как ни парадоксально это нынче звучит, — место пустое и бесплодное. Зря ли так долго держится именование его — «Останкино, Осташково тож на суходоле». Однако эта изначальная «пустота» и «бесплодность» изначально же и насыщены. Как свидетельствует гидрогеология, под культурным слоем находятся погребённая палеодолина (в меридиональном направлении) и нерасчленённые озёрные отложения днепровско-московского межледниковья с отложениями днепровской морены. (8)
Не из этого ли сухого-влажного проседания — первый известный нам пространственный жест в сторону усадьбы и её мифа — вырытый в XVI веке останкинский пруд как первый опыт борьбы с пустотой, с хаосом, со средневековой водобоязнью, как начальное желание закрепить, структурировать пространство?
10.2. В этом аспекте мифологемы особая роль отводится останкинскому Троицкому храму с его особой семантикой, смысловой архитектоникой, специфическим богословием (9) как опытом закрепления видения, нисхождения благодати, явления Троицы воочию св. Александру Свирскому, которому и посвящён один из престолов. Слово, обращённое к преподобному, как новозаветному Аврааму, удостоившемуся явления Святой Троицы в виде трёх ангелов: «Я оставляю тебе мир и мир Мой подам тебе» звучит в этом контексте как архетип Нового времени с его культом делания, как провозвестие петропавловского мифа творения в одночасье, как архетип усадебного строительства в том числе.
10.3. Анализируемый нами здесь и прежде останкинский миф времён расцвета усадьбы актуализирует парадокс полноты и пустоты, отсутствия и присутствия, «великолепнейшего» аполлонического монумента на века и деревянной, бумажной однодневки, возведённой на хилом столбчатом фундаменте.
10.4. Своеобразным развитием мифологического парадокса полноты и пустоты стал и намертво приросший к Останкину миф о Галатее и Пигмалионе.
Культура второй половины столетия с увлечением отыгрывала миф Минервы и миф Дидоны. (10) В официозном образе Минервы Екатерина II представала богиней победительницей и богиней, покровительствующей искусствам. Образ любвеобильной Дидоны говорил об императрице приватно, а Эней, коим мог быть любой новый фаворит, иногда и вовсе опускался. Минерва и Дидона — две стороны одной медали пафосного екатерининского мифа, запечатлённого эпохой во всех художествах и всех материалах.
Под барабанный бой, медь валторн, церемониальную поступь победоносных полков и «подблюдны песни щастливых селян», незаметно вызревает иной, исполняемых на струнных и свирелях, противопоставленный имперскому миф частной жизни и приватной судьбы. Миф о Галатее и Пигмалионе, о творении любви и оживлении любовью, вновь о рождении всего из ничего.
Не раз отмечено, что книги просветителей, в особенности Руссо, «слёзные комедии», ставшие модными на театре, культ природы в архитектуре и живописи, мода «а ля натюрель», «чувствительная» поэзия и «музыка сердца» способствовали общему мнению, что «и крестьянки любить умеют». Далее этого утверждения никто, почитай, и не пошёл. А если и вправду находились «Пигмалионы», то результаты их «творчества», как правило, были трагичны.
Таков Руссо, проповедь которого не мешала ему отдавать всех своих внебрачных детей в приюты; таков возлюбленный обидчик, таинственный «Sh» Л. Стерна в знаменитом его «Сентиментальном путешествии по Франции и Италии», бросивший трогательную Марию и её ручного козленка; таков Эраст в «Бедной Лизе», толкнувший страдалицу в утопленницы… Во второй половине XVIII — начале XIX века их — простодушных Галатей и модных Пигмалионов — сотни, если не тысячи.
История П.И. Ковалёвой-Жемчуговой и графа Н.П. Шереметева — нетипична. Нехарактерна именно потому, что им — единственному Пигмалиону и единственной Галатее — удалось то, о чём остальные лишь болтали и что своекорыстно разыгрывали. Нетипична, поскольку, развивая античный миф, со временем и Галатея творила Пигмалиона. Необычна, как все, где, знамо дело, «кончается искусство», а, натурально, «дышит почва и судьба». (11)
Неслучайно пигмалионическая история нашла свое идеальное воплощение в Останкине, в усадьбе со своей устоявшейся мифологемой, поскольку и то и другое восходит к мифу «творения в одночасье», к рецепту чуда «всего из ничего», к искони московскому парадоксу «переполненной пустоты». (12)
10.5. Тем пышнее расцветал миф о Галатее и Пигмалионе, окончательно закреплённый с завершением строительства Странноприимного дома в Москве (1794–1810). Получив после 1803 года, по смерти графини П.И. Шереметевой, мемориальный характер, дом этот «вдруг» выявил архитектурный жест приглашения, утверждения и зова. Плановое полукружие здания сообщает пространству внутреннего двора и всей композиции «вбирающее», «вводящее», «приглашающее» движение.
Его энергию останавливает, не ослабляя посыла, полукруглая двойная колоннада, предложенная Кваренги. Неторопливое достоинство этой архитектурной пластики наглядно воплощает в композиционный и градостроительный образы новозаветное «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою Вас» (Мтф. 11: 28), служившее своего рода эпиграфом замысла, девизом дома (13), обращённого к югу, к дельте Сретенки, а через неё — к центру Москвы, города, извергающего несчастных.
Теперь материала для дальнейшего развития мифа стало вдосталь, и он, миф, не преминул этим воспользоваться.
Останкинский миф вышел за пределы усадьбы, увлекая за собой и посетителя, трансформируя человека «глядящего» XVIII века в человека «слушающего» XIX <века>.
И когда читаешь пушкинскую «Барышню-крестьянку», то понимаешь вдруг, что маскарад с переодеванием в крестьянское платье, затеянный «Акулиной» (Лизой-Бетси Муромской) с Алексеем Берестовым — реплика на историю Николая Петровича и Прасковьи Ивановны… А диалог: — «И ты не обманешь меня?» — «Не обману». — «Побожись». — «Ну вот те святая пятница, приду», — отсылает вдумчивого читателя и к Прасковье Шереметевой, и к её небесной покровительнице Параскеве Пятнице… (14) И когда натужно и безуспешно пытаются петь «Вечор поздно из лесочка…» — не важен голос, так же, как нужды нет выяснять, кем, когда и почему сочинена песня, разошедшаяся изустно и в лубках как своего рода ария русской Галатеи…
И когда в житии св. Ксении Петербургской наталкиваешься на некую Прасковью Ивановну — постоянную и «давнюю благожелательницу и покровительницу» будущей святой, то охотно и <не> без оснований сопрягаешь всё это с образом П.И. Шереметевой…
И когда случайно, вовсе ненароком, находишь упоминание о счастливом послевенчальном житии Н.П. Кондакова именно в Останкине и о продолжительной дружбе его с гр. С.Д. Шереметевым, то уже и не удивляешься. А где же ещё жить великому русскому иконографу и с кем ещё приятельствовать?
И когда вглядываешься в многочисленные истории XIX века, сконструированные по рецепту «неравный брак», то начинаешь понимать, что все они — своего рода корреляты к останкинским мифам. И что ж удивительного, если мифологема живёт и далее в XX столетии.
Так, Александр Галич, столь отзывчивый к метафизике Москвы, настойчиво проговаривает её. (То «останкинская девочка» милиционерша «Леночка Потапова» выходит замуж за заморского принца; то, напротив: «Отвези, ты, меня, шеф, в Останкино», — просит вышедший из грязи в князи, но предавший свою останкинскую любовь партийный бонза; то всеми отринутый автор пишет на «Эрике», которая «берёт четыре копии», не где-нибудь, а «десять метров комната в Останкине».)
И когда в рассказах Асара Эппеля (15), ярко живописующих жизнь вокруг останкинской усадьбы в 1940-е годы, жизнь — так точно обсказанную, но так тщательно обходящую сам дворец, то снова утыкаешься в феномен «переполненной пустоты» и готов повторять, вслед за прыщавым виршеплетом с Ново-Московской улицы:
…Есть в осени первоначальной…
…в тиши останкинских дубрав…
…дворец пустынный и печальный…
…а в нем влюблённый ходит граф…
…Шереметев …
…Столп с Помоной…
…и первый в жизни поцелуй…
…и на скамье той потаённой…
…начертанное кем-то «х.й»…
— «поверх барьеров» сопрягая зачем-то Помонов столп, нож Вертумна, рог изобилия, будто бы простодушные девизы «помонических» эмблем (16), приапические знаки, ну и, само собой, «начертанное кем-то».
10.6. Таким образом, XIX век, время, должное стать началом эстетического осмысления и присвоения Останкина новым посетителем, прошло для него почти втуне, в силу особенностей останкинского мифа, во-первых, и достаточно последовательного нежелания наследников Н.П. Шереметева открывать памятник с очевидной, казалось бы, прамузейной функцией, для осмотра всех. Только в этом смысле и дачный бум рубежа XIX–XX веков, и пышность всего псевдофольклора XIX столетия в страданиях «по неравнем браке» — своего рода эстетические акты не посетившего тогда Останкино посетителя, своеобразно переживающего миф «переполненной пустоты».
10.7. Миф «переполненной пустоты» продолжает активно работать в останкинском локусе на протяжении всего XX столетия, воздействуя на посетителя.
10.7.1. Тотальность мифа, его всевластие над всеми социальными слоями продемонстрировали события 1917–1918 годов, когда «переполненная пустота» мешает грани возможного, тасуя амальгамы, путая поту- и посюстороннее, трансформируя зеркала и множа зазеркалья: и когда Шереметевы сами и добровольно отдают Останкино новой власти, и когда сами останкинские жители защищают усадьбу от разорителей, и когда те же аборигены из «бывшей… администрации Шереметева», как ставший заведующим дворцом-музеем Р.Г. Костиков, «ведут самоотверженную борьбу с группой дельцов-«коммунистов» Пашкова, Предена и др.» (17), и когда несколько раз неизвестные грабители, проникая во дворец, не берут ничего, прихватывая с собой разве что фрагменты драпировок. (18)
10.7.2. Наследуя, с одной стороны, мифу чудесного творения, с другой, замыслу пантеона искусств (знаний, умений и др.), и, наконец, с третьей, игровому переживанию пространства (19) со всеми его корреляциями и нарративами «потёмкинских деревень», усадьба Останкино дублируется новой эпохой в феномене ВСХВ-ВДНХ как энциклопедии советского всемогущества и вокабулярия советского всезнайства. (В этом смысле не посещавшие Останкина герои кинофильма «Свинарка и пастух», пребывая в границах Выставки достижений народного хозяйства, Останкино всё-таки посещают. Да и сам сюжет шедевра советского кинореализма по сути реплика останкинскому мифу в такой его составляющей, как «неравный брак».) Приметим также, что феномен ВСХВ-ВДНХ вновь, почти как в XVIII столетии, предполагал зрителя в двух ипостасях: потрясённого, но постороннего — и заинтересованного, равного в интенциях и сомасштабного в инвенциях авторам знатока некоторых «страниц» энциклопедии.
10.7.3. По сценарию волшебной подмены всего ничем и наоборот спасает во второй половине 1930-х годов усадьбу, дворец, коллекции К.А. Соловьев, остроумно эксплуатировавший концепцию творчества крепостных. Остроумно настолько, что сам и становится её жертвой, забыв к концу 1950-х — началу 1960-х совершённые им же подмены, запамятовав свою ложь во спасение. И новый посетитель усадьбы второй половины 1930-х — начала 1960-х более чем охотно принимает подмену, позволяющую ему совместить эстетическое с классовым.
10.7.4. Опытом «творения в одночасье», но уже со знаком «–», той же «победой отсутствия над наличием» пользуются во время Отечественной войны для спасения дворца, создавая «ложную экспозицию» в интерьерах и «растворяя», при помощи маскировки, его экстерьер. Высшей оценкой этого вынужденного жеста мифа «переполненной пустоты» стали пронзительные отзывы уходящих на фронт бойцов 1942–1944 годов, людей, не заметивших подмены.
10.7.5. Начало подспудного разрушения равновесия эстетического и вульгарно социологического в изводе мифа «переполненной пустоты» образца второй половины 1930-х — начала 1960-х годов фиксировано двумя знаменательными обстоятельствами.
Во-первых, это начало традиции музейного музицирования как своего рода предел советской эстетизации памятника для его посетителя (20), как начало признания метапоэтики «театрализации».
Во-вторых, это начало строительства Останкинской телевизионной башни, ставшее своего рода кульминацией аполлонического и, стало быть, солярного мифа с наследованием мифологемы Сухаревой башни и семантикой «перпендикуляра во мнимое, в вакуум», «окна в иное» (21).
Пытающееся фиксировать метафизическую останкинскую дыру грандиозное строение изначально обречено парадоксу: мощнейшая техногенная структура производит эфир, прогнозы, прозрения, мороки. Не зря же Владимир Орлов поселяет всю «чисть и нечисть» во главе с альтистом Даниловым вокруг Останкина. Не зря же восставшие в 1993 году приехали на телевидение и долбили именно витрину, то есть стекло как метафору эфира, как троп «отсутствия — присутствия»… Не зря же более чем чуткий к массовому мифу Виктор Пелевин даёт финальные разгадки «Generation „Π“» в неких «останкинских подвалах»… Не зря же Сергей Лукьяненко как в «Ночном», так и «Дневном дозоре» избирает ареной противостояния стогны и улицы вокруг Останкина… Не зря, пытаясь замещать легендарного московского «востронома» Якова Брюса на Сухаревой башне, не оставляют в покое Останкинскую всевозможные уфологи…
И уж вовсе неслучайно более чем техническим происшествием мнился общественному мнению пожар башни осенью 2000 года.
Из останкинского локуса и из сознания посетителя Останкина, около полувека жившего в гармоническом парадоксе эстетического — классового, уходит последняя часть дихотомии, трансформируясь в новую дихотомию эстетического — эзотерического.
10.7.6. Окончательно оформившееся к рубежу 1970-х — 1980-х годов прощание эстетического с классовым можно видеть во многих симптомах: и в том, как в окончании официального названия музея — Останкинский дворец-музей творчества крепостных — всё чаще опускают два последних слова даже в официальной переписке; и в том, как мучительно, но верно меняются атрибуции крепостным творцам всего останкинского на иные, отводящие центральные роли ведущим мастерам конца XVIII столетия, замыслы которых реализовала «крепостная интеллигенция Шереметевых» (22); и в результатах социологических исследований, очевидно свидетельствующих о поисках посетителем в первую очередь «эстетического удовольствия» не без тайной, подчас почти неосознаваемой эзотерической нотки (23); и в подспудной смене тематики выставок, лекций, экскурсий; и в мучительном преодолении своего рода террафобии, свойственной музею в 1970–1980-х, когда Останкинский дворец-музей будто и не видел своего парка, панически боясь трансформации в реальный музей-усадьбу, в настоящий дворцово-парковый ансамбль. (24)
11. Все перечисленные парадоксы останкинского комплекса неминуемо приводят нас к констатации основных принципов реставрации, изложенных нами в техническом задании на проектирование, и, вслед, на производство работ.
Во-первых, мы реставрируем «non finito» и, задыхаясь от собственной смелости, не берём на себя ответственности доделывать величие незавершённого замысла. Тем самым не так реставрируя, сколь консервируя.
Во-вторых, принимая Останкинский дворец как памятник не только художества, но и инженерии, мы стремимся сохранить его уникальную конструкцию. Не только сохранить, но и демонстрировать её в будущей экспозиции дворца.
В-третьих, исходя из явленных в ансамбле будто бы антиномических псевдопарадоксов «вечности — времени», «каменного — деревянного», а также учитывая уникальную степень сохранности памятника, мы намерены сохранить целокупность материалов останкинского Gesamtkunstwerk.
В-четвёртых, осознавая парадокс изначальной «элитарности» с объявленной современной культурой нормой «вседоступности», мы зонируем 15 гектаров территории ансамбля на «строгую» и «вольную» зоны.
В-пятых, мы отдаём себе отчёт в необходимости музеефикации развитого останкинского мифа. Трансляция его, без сомнения, — шанс сплотить, как минимум, местное сообщество и, в пределе, куда как более обширные страты.
В-шестых, учитывая высокую степень сохранности верхнего машинного отделения и, отчасти, его механизмов, с одной стороны, но и принимая во внимание небанальность и нетипичность решения останкинской машинерии в целом, мы не станем настаивать на воссоздании полноценного останкинского театрального действа. При этом в качестве дополнительного аргумента мы держим в уме мифологическое преизобильное преувеличение широты останкинских празднеств конца эпохи «великого метаморфозиса».
В-седьмых, отдаём себе отчёт, что проектирование воссоздания утраченных построек, где будут размещены не только фондохранения и реставрационные мастерские, но и многочисленные помещения для работы с посетителями, разрывает псевдоантиномию «храмовник — социальный работник». И всему коллективу, во главе с директором, придётся учиться работать по-новому, оставив насиженные места «гуру» и «последнего солдата в последнем окопе с предпоследним патроном».
Ибо, воистину, «спектакль подобен хорошо организованному обществу, где каждый жертвует своими правами для блага всех и всего целого. Кто же лучше определит меру этой жертвы? Энтузиаст? Фанатик? Конечно, нет. В обществе — это будет справедливый человек, на сцене — актер с холодной головой».
Всех, власти, профессиональное и гражданское сообщество, призываю — охолонуть и подумать о возможных выходах из останкинского парадокса справедливыми людьми с холодными головами и с общим для всех языком (Быт. 11: 6).
Dixi.
Примечания:
1 Пиралишвили О. Проблемы «нон-финито» в искусстве. Тбилиси, 1982.
2 Замечательно, что само открытие монумента основателю новой российской столицы было организовано подобным же образом: разом вдруг упали щиты, скрывавшие до того «Медного всадника». То есть церемониал был обращён к чудесному рождению города. Не приводя безбрежной библиографии, отметим, что почти все графические фиксации современников запечатлели именно это мгновение. См., например, известную гравюру А. Кола и А. Мельникова по рисунку А. Давыдова. Подробнее: Вдовин Г. Краткие тезисы к проблеме интерпретации семантики усадебного пространства и его мифологемы (на примере Останкинского усадебного комплекса) // Искусствознание. 2003. № 2.
3 Леви-Стросс К. Как умирают мифы // Зарубежные исследования по семиотике фольклора. М., 1985. С. 87.
4 Шамурин Ю. Подмосковные. М., 1912. Ч. I. С. 6.
5 Панченко А. М. «Потёмкинские деревни» как культурный миф // XVIII век. Сб. 14: Русская литература XVIII — начала XIX в. в общественно-культурном контексте. Л., 1983. См. также: Вдовин Г. «Не всё золото, что блестит», или «Живой труп». Заметки о риторическом эффекте в русской культуре XVIII — начала XIX в. // Вопросы искусствознания. М., 1995. № 1–2.
6 Действительно, известные отзывы Паже, Вигеля, Де Пуле об останкинских праздниках и оценки современниками празднеств, сопровождавших «новороссийский прожект» (Сегюр: «Мне… кажется… что это страница из „Тысячи и одной ночи“, что меня зовут Джафаром и что прогуливаюсь с халифом Гаруном аль-Рашидом…») кажутся близнецами, рассказами об одном и том же. Ту же семантическую параллель использует Г.Р. Державин и другие очевидцы праздников в Таврическом дворце. В свою очередь, останкинские праздники передают мифологическую эстафету Кузьминкам. Современники, в частности Н.А. Порецкий, сравнивают знаменитый приём в Кузьминках 29 июля 1837 г. с «пирами Потемкина-Таврического, Орлова-Чесменского, Шереметева». Подробнее см.: Вдовин Г.В., Лепская Л.А., Червяков А.Ф. Театр-дворец в Останкине. М., 1994.
7 Подробнее см.: Вдовин Г. Мир русской усадьбы — миф русской усадьбы. Опыт авторецензии // Мир музея. 1995. № 1; см. также вступ. ст.: Мир русской усадьбы — миф русской усадьбы // Мир русской усадьбы. Каталог выставки. М., 1995.
8 Подробнее см.: Пашкин Е. М. Инженерно-геологическая диагностика деформаций памятников архитектуры. М., 1998. 4 Михайлов Б.Б. Храм Живоначальной Троицы в Останкине. М.; Козельск, 1993.
9 Особое значение имеют тут, конечно, и жизнь преподобного на берегу Святого озера в нескольких верстах от р. Свирь, и подвиг ученика его св. Адриана Ондрусовского на Ладоге, и роль Александро-Свирского монастыря в Северной войне.
10 Корндорф А. Российская Дидона, или Оборотная сторона Минервы // Искусствознание. 2003. № 1. А также см.: Корндорф А. С. Дворцы химеры. Иллюзорная архитектура и политические аллюзии придворной сцены. М., 2011. Близко примыкающий к общероссийскому мифу «Минервы — Дидоны», а то и коррелирующий с ним аполлонический миф Останкина в некоторых своих эпизодах давал неожиданные результаты: Вдовин Г. Памяти кентавромахии и лапифофобии как зеркала русской культуры Нового времени. Опыт семиологического эссеизма с обилием цитат, отсутствием сносок, неоригинальным подтекстом и вовсе уж сомнительным моралите // Октябрь. 2004. № 6.
11 «Знаменитейший неравный брак, брак Шереметева с Парашей, не был первым из неравных, но первым в мире частных лиц. И в этом качестве означил наступление эпохи частности на пороге XIX века», — свидетельствует один из вдумчивых специалистов по «метафизике Москвы» Рустам Рахматуллин (Облюбование Москвы // Новый мир. 2001. № 10). Заметим, что немало постарались для мифа Галатеи и останкинского мифа родственники, потомки и друзья графа Н.П. Шереметева. В огромном архиве Шереметевых документов, касающихся непосредственно Прасковьи Ивановны, — наперечёт. По свидетельству первого биографа актрисы Петра Безсонова, написавшего свою книгу в 1872 году, «чья-то заботливая рука тщательно изъяла всё, относящееся к интимной жизни Шереметева». Подробнее см.: Граф Н.П. Шереметев. Личность, деятельность, судьба. М., 2001.
12 Балдин А. Московские праздные дни // Новая Юность. 1997. № 24.
13 Подробнее см.: Вдовин Г. Образ Москвы XVIII в. Город и человек. М., 1997.
14 Заметим в сноске, что Пушкин, как обычно, даёт и повторную отсылку: «Акулина», как и П. Ковалева-Жемчугова — дочь кузнеца.
15 Эппель А. 1) Травяная улица. М., 2000; 2) Шампиньон моей жизни. М., 2000.
16 См., например, № 711 в «Избранные емвлемы и символы…» Нестора Максимовича-Амбодика (СПб., 1811) и др. Некоторые иконологические останкинские сюжеты исследуются в упомянутых прежде наших работах.
17 Архивные материалы по национализации и образованию музея (НА, ф. II, № 361/806/ Л. 1–5).
18 О передаче музея в ведомства 1919, 1922. — НА, ф. II, № 478/1134, л. 4. Для метафизиков пространства и просто для любителей исторических курьёзов, с приветом братьям Стругацким, не могу не отметить, что многие документы этих времён исправно подписывает «зам. нач. музейного отдела» по фамилии Мерлин.
19 Понятие «игровое переживание пространства» без пресловутых «бахтинологических» идей тотальной «карнавализации» предложено: Раппапорт А.Г. Пространство театра и пространство города в Европе XVI–XVII вв. // Театральное пространство. Материалы науч. конф. М., 1979. На примере Останкина понятие разрабатывалось нами в ст.: Вдовин Г. В. Краткие тезисы к проблеме интерпретации семантики усадебного пространства и его мифологемы (на примере Останкинского усадебного комплекса) // Искусствознание. 2003. № 2.
20 Останкинский дворец-музей творчества крепостных одним из первых в Европе и первым в СССР открыл и стал разрабатывать тему музейного музицирования как специфического музейного акта.
21 Балдин А. Московские праздные дни.
22 Новые материалы по истории русской культуры. Научные труды Останкинского дворца-музея. М., 1987. — Сборник был написан и составлен ещё в 1983 г.
23 Фоломеева И.М., Вдовин Г.В. и др. Итоги социологических исследований в Останкинском дворце-музее в 1984 г. (НА, ф. II, № 561/1006).
24 Закрытие останкинского «Увеселительного сада» с 1979 по 1993 г. странным образом не вызывало в те времена протеста ни у посетителей, ни у властей предержащих.










 Записи
Записи